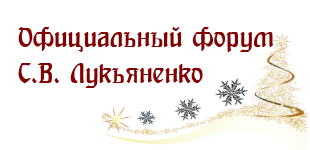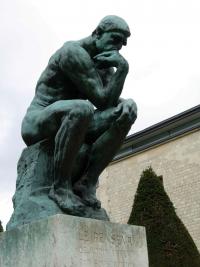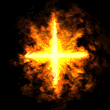Последние форумные беседы на околонаучные темы натолкнули на мысль сравнить интеллектуальный менталитет и словарный запас нынешнего интеллигента супротив прошлого, сравнить дух и кураж пращуров с нашим пониманием существа дела. Отличаемся ли мы от них? И если отличаемся, то с каким знаком? Ниже статья С.П.Боткина для первого номера журнала «Наука и жизнь».

Беседа на Новый Год
Жизнь в природе
Еще один год безвозвратно канул в таинственную бездну всепоглощающей вечности, и как ничтожны перед этою вечностью те немногие годы, которые мы живем на Земле! В этом отношении людской род далеко не может похвастаться пред другими представителями органического мира. Среднюю норму продолжительности человеческой жизни один священный писатель определил в 70 лет, а "если в силах" - 80, затем следуют "труд и болезнь". Но ныне весьма немногие достигают и этого возраста. При рождении мы получаем запас жизненной энергии, которая может быть истрачена в различное время. Кто тратит этот капитал разумно и умеренно, тому его хватает на большее время, чем расточителю.
Кратковременность жизни давно уже занимала умы философов и всех людей. Поиски «жизненного эликсира» восходят до глубокой древности, но только недавно наука прочно установила некоторые принципы продления нашей жизни. Открытый ныне эликсир не представляет ничего необычайного; он состоит лишь в правилах жить разумно и гигиенично, не расточать капитала жизни, получаемаго нами при рождении. Однако, это правило слишком прозаично и вовсе не ново, хотя только ныне научно установлено. Но человек уже так устроен, что ему непременно хочется чего-либо необычайного. В данном случае, такая жажда чудеснаго еще более понятна.
Пока мы молоды, сильны, здоровы, нам кажется, что иначе и быть не может, и мы «что имеем, не храним». Но вот безжалостное время, остудив горячую кровь, начинает бороздить морщинами наше лицо, серебрить наши виски раннею сединой, а охлажденный житейским опытом ум – подводить итоги прошлаго. Ах, чего бы мы не отдали в это время за один, - только за один! – день молодости и здоровья, юности, полной несбыточных надежд, иллюзий, ошибок, промахов, глупостей, - безразсудной, но зато, - полной сил и надежд – счастливой юности! И увы! Наш ум говорит, что это невозможно, что все былое кануло в бездну вечности и не воротится никогда, никогда!
Никогда! – какое ужасное слово даже для нашего охлажденного житейским опытом, даже для нашего озлобленного людскою неправдой ума! И вот невольно возникает желание устранить это ужасное никогда. Да так ли? – А может быть…
Что такия чувства вполне естественны, это доказывает недавний примкр «Фауста нашего времени», - Браун-Секара. Этот знаменитый ученый, на закате дней своих, минувшим летом, в Париже заявил, что он нашел средство возвращать молодость старикам, подкожно впрыснув им известным образом приготовленную эмульсию из яичек морской свинки. Опыты с этим впрыскиванием производятся в разных странах и до сих пор; многие ученые врачи отнеслись к делу вполне серьезно. Пока результаты опытов неблагоприятны – способ Браун-Секара не возвращает молодости.
Но знаменателен тот факт, что славный ученый занялся подобным вопросом, и что масса врачей во всех странах бросилась проверять его выводы.
Возвратить молодость – это уж слишком трудная задача. Читатели, естественно, спросят: но если даже такую задачу берут на себя светила науки, то нельзя ли думать, что возможно решение более скромных задач, напр., о продлении жизни? Считать ли такия мечты неосуществимыми, или же допустить возможность их осуществления, хотя бы в будущем? Нельзя ли жить как-нибудь иначе, а не так, как ныне? Постараюсь, по мере сил, ответить на эти вопросы.
Невольно напрашивается сравнение некоторых явлений в жизни человека и животных.
Выше мы сказали, что чем умереннее тратится жизненный капитал, тем продолжительнее жизнь человека. Но при обычных условиях, все-таки есть известный предел, за которым и бережливость будет уже не полезною, а вредною. Наш организм требует расходов, но нельзя ли понизить существующий ныне минимум?
Пример такого чрезвычайного сокращения расходов организма давно уже известен у животных, подверженных зимней спячке. Ей подвержены весьма многия животныя самой разнообразной величины, теплокровныя и холоднокровныя, живущия в холодном и жарком климатах, большие медведи и маленькие сурки, огромные аллигаторы и маленькия змеи, белки, барсуки, бобры, тушканчики, ежи, летучия мыши, даже ласточки (как указано в прошлом году в Париже) и т.д. У всех их жизненная деятельность почти совершенно прекращается на более или менее продолжительное время, иногда на много месяцев, но жизнь остается. Все время спячки они похожи на трупы, и иногда лишь с трудом можно заметить в них слабые признаки жизни. Столь сильное животное, как медведь, несколько месяцев не нуждается ни в пище, ни в питье, тогда как при обычном состоянии он неизбежно умер бы от голода в сравнительно весьма короткое время.
Замечательно, что и у человека иногда бывает подобное же состояние в случаях летаргии и мнимой смерти, несомненно и достоверно доказанных. В медицинской литературе известны случаи, когда такие мнимо-умершие оживали через месяц и более, хотя за все время их сна их почти невозможно было отличить от умерших. Что такие случаи даже не особенно редки, это доказывается обычно принимаемыми мерами при похоронах (по закону нельзя хоронить ранее третьяго дня) и ужасными случаями нахождения похороненных в ином положении, а не в том, в каком они были положены во гроб.
Возможность изменения обычных жизненных норм у человека получила недавно еще новое доказательство. Весьма редкие люди могут остаться живыми, если их лишить пищи на время около двух недель. Большинство помрет гораздо ранее этого срока, и никто из обыкновенных людей наверное не останется жив после трехнедельнаго лишения пищи. Но в 1882 году американский доктор Таниер произвел удивительный опыт голодания в течение сорока дней; за ним наблюдала особая комиссия, и вряд ли может подлежать сомнению, что дело было без обмана. За ним последовали другие опыты: Сукки, Мерзятти, Чети и т.д. Правда, последние постились не более 30 дней, но и этот срок абсолютно смертельный для обыкновенных людей, и что всего удивительнее, - Суки во время поста дозволял себе даже прогулки, а по окончании его, сразу отлично пообедал и не только не заболел, но чувствовал себя вполне хорошо и снова вскоре повторял свой удивительный опыт.
Не наводят ли такие факты на мысль о возможности для человека сократить расход своего жизненного запаса настолько, чтобы его хватило, напр., на несколько сот лет? Разве не заманчиво уснуть в 1890 году и проснуться в 1990, чтобы посмотреть на правнуков современнаго поколения, прочесть бурную историю целаго столетия и дожить век через сто лет, или же еще повторить опыт на сто лет? Нельзя ли настолько привернуть «лампу жизни», чтоб она лишь чуть-чуть теплилась, так чтобы через сто лет снова могла ярко засветиться при повороте винта, имея достаточный запас осветительного материала?
Будет ли когда-либо решена эта задача, Бог весть. Но уже и ныне известны удивительные факты, засвидетельствованные почтенными людьми. Приведем здесь один рассказ, со ссылками на источники.
В 1838 году секретарь индийскаго генерал-губернатора Осборн, получив особое поручение к Лагорскому махарадже, Руиджит-Сингу, главе племени Сиков, произвел удивительный опыт, описанный им в книге The Count and Camp of Runjeet Sing, by W.Osborne, London, 1840 (см. также Magazine pittoresque 1842 г. Стр. 405 и статью г.Вариньи в Reque Scientifique, 8 декабря 1888 года). Опыт с факиром был произведен в присутствии капитана Уода (Wade), английскаго политическаго агента в Лудьяне (Loodhiana), а также находившагося при махарадже французскаго генерала Вантюры (Ventura).
Пред диковеннным опытом факир долгое время готовился неизвестным образом, после чего явился ко двору махараджи и заявил, что он готов для опыта. Факир залил воском все естественныя отверстия тела (уши, ноздри и т.д.), исключая лишь рот. Его раздели и положили в полотняный мешок, после чего заворотили язык назад в глотку, как бы для ея закупорки. Факир вскоре погрузился как бы в глубокую летаргию. Мешок был завязан, запечатан собственною печатью Руиджит-Синга и положен в деревянный ящик, который заперли и точно также со всех сторон опечатали. Затем ящик был повешен на цепях в яме, имеющей вид погреба. На отверстие погреба наложили тяжелый камень, засыпали его землей, посеяли на земле ячмень и вокруг поставили строжайший караул.
Но махараджа был весьма подозрителен. Боясь, чтобы стражу не подкупили, в течение шести месяцев он два раза приказывал вскрывать склеп, где висел факир, и каждый раз назодил его там в совершенно безжизненном виде. Наконец, только через десять месяцев было решено возвратить факира к жизни.
В пристутствии капитана Уода вскрыли склеп, и капитан удостоверяет, что у факира не было заметно ни малейших признаков жизни, когда сорвали печати, отперли ящик и развязали мешок. Пульса и биений сердца у факира совершенно нельзя было заметить: это был, повидимому, безжизненный труп. Все тело факира было холодно, как лед, и только голова была несколько тепла. Прежде всего факиру поправили язык, затем раздели и начали поливать его тело теплою водой. Через несколько минут он открыл глаза и стал дышать, а через два часа был уже совершенно в нормальном состоянии, как будто последние десять месяцев провел не в склепе, а среди людей, в обычных условиях.
Этому факиру было 30 лет. Он заявил по окончании опыта, что все время он видел приятные сны и что возвращение к жизни для него было даже неприятно. Во время сна его волосы и ногти перестали рости. В первое время по возвращении к жизни он казался несколько удивленным, как бы оглушенным, но очень скоро оправился. Затем факир заявил, что он всего более боялся червей и других насекомых, которыя могли добраться до него и съесть его заживо. Именно вследствие этого опасения он и велел повесить ящик в склеп, а не класть на землю.
Генерал Вантюра, вскоре после этого прибывший в Париж, вполне подтвердил справедливость сообщения В.Осборна.
Другой такой же опыт был сделан в присутствии другаго члена английской миссии, Мак-Грегора. Один факир явился в Лагор к Руиджит-Сингу и заявил, что он может прожить долгое время без пищи и питья. Руиджит-Синг не поверил и потребовал, чтобы был произведен опыт. Индуса-факира заперли в большой сундук, который положили в погреб изолированнаго дома, окруженнаго каменными стенами. Входные ворота заперли и запечатали, а вокруг стен был приставлен строжайший караул, сменявшийся 40 дней и 40 ночей. По истечении этого времени махараджа лично явился для вскрытия сундука, в присутствии генерала Вантюра, капитана Уода и Мак-Грегора.
Факир оказался в сидячем положении: его руки были вытянуты вдоль тела; ноги скрещены. Пульс и биения сердца были неощутимы совершенно. Когда веки были подняты, глаза оказались тусклыми, как у мертвеца. Прежде всего факиру поправили завороченный назад язык; затем вынули восковой тампон из одной ноздри и стали лить на темя теплую воду и растирать все тело; вскоре факир вздохнул; появился пульс, и факир очнулся. Он был весьма слаб, так что когда попробовал произнести несколько слов, то не мог. Но это скоро прошло и факир вполне оправился; успех опыта сопровождался, по приказанию махараджи, залпом артиллерийских орудий. Затем факир утверждал, что все сорок дней его дыхание было совершенно прекращено.
Верить или не верить удивительным рассказам? Нет сомнения в добросовестности махараджи и других свидетелей. Но не были-ли они введены в обман каким-нибудь ловким фокусом, не были-ли жертвами мистификации, устроенной друзьями факиров? Здесь является весьма странным тот удостоверенный факт, что у факиров, во время окончания их опыта, не было возможно заметить ни дыхания, ни пульса, ни биений сердца; затем у них была весьма необыкновенная температура тела, мутные глаза и т.д. Между тем, мы не можем искусственно ни замедлить число сокращений сердца, ни прервать дыхание, ни понизить температуру своего тела, ни сделать глаза мутными, как у мертвеца. Если даже допустить возможность обмана, последния явления все-таки остаются непонятными и необъяснимыми для нас.
Но в самом деле, нельзя-ли допустить для человека возможность существования при отличных от настоящих условиях?
Быть может возможны иныя, до сих пор еще неизвестныя нам, условия роста и питания человека? Такое предположение кажется невероятным сначала, но в том-то и беда, что при настоящем состоянии наших знаний мы еще весьма трудно различаем границу между вероятным и невероятным.
Если бы двести лет назад сказать, что можно перевозить товары и людей с быстротой 60 верст в час, что можно сообщать мгновенно все, что угодно, за 10.000 верст, что можно переговариваться на 100 и более верст, - разве не сочли бы говорящаго за сумашедшаго, или за колдуна, или за лжеца? А меж тем эти и многия иныя диковинки, совершенно невероятныя для наших предков, - для нас вполне понятны и обычны.
Мало-ли, «секретов», наблюдаемых нами ежечасно и ежеминутно, но совершенно необъяснимых для нас? Разве вся наша жизнь не есть тайна? Разве не удивительно, как из невидимаго простым глазом яичка развивается человек? Мы думаем, в основе, - говорят одни, - лежат химическо-механические процессы в мозгу. Но каким образом изменения вещества переходят в умственную работу? Другие говорят, что химическо-механические процессы мозга сотавляют лишь последствие умственной, духовной деятельности. И опять связь между этими двумя явлениями для нас остается тайной. Мы знаем, что небесная механика зависит от законов тяготения; а что такое закон тяготения по существу? Почему материя взаимно притягивается, а не отталкивается, чему мы видим и примеры, напр., в электричестве? Но таких вопросов несть числа. До настоящаго времени конечным результатом всех усилий нашего ума неизбежно служит вопросительный знак. Мы последовательно объясняем целый ряд явлений ясными доводами и причинами; но в конце концов неизбежно приходим к причине, которую можем не объяснить, а лишь удостоверить, что она есть – т.е. верить в ея существование…
Итак, мы не можем отрицать, что есть, могут и должны быть непостижимыя для нашего ума явления. Мы сводим все дело, поэтому, прежде всего лишь к удостоверению таких явлений. Пока мы думаем, что нам известно все, мы круглые невежды; если мы скажем, что не желаем признать того, чего не можем объяснить, мы будем еще большими невеждами, неисправимыми тупицами, неспособными к совершенствованию. Ибо совершенствоваться можно лишь узнавая то, что было ранее неизвестно, объясняя то, что ранее было необъяснимо. Раз удостоверясь в самом существовании непонятных фактов, мы неизбежно будем работать умом и над их объяснением, а в этой-то умственной работе и заключается прогресс науки.
Вместе с бесконечным разнообразием форм органическаго мира, мы встречаем также и необычайное различие в продолжительности периодов, в течение коих каждый организм совершает полный цикл жизни, - от нескольких секунд до нескольких сот (а быть-может и тысяч) лет. «Река времени» топит «в области забвенья» не только народы и царства; огромные миры, коими мы можем любоваться в ясныя звездныя ночи, подвержены той же неизменной участи, с тою лишь разницей, что их жизнь измеряется не десятками, а миллионами и десятками миллионов лет. Это кажется вечностью для нас; но выйдите в тихую звездную ночь на чистое поле и взгляните на падающие звезды, - вы убедитесь, что даже миллионы лет все-таки не вечность. Придет пора, и наша Земля мелькнет яркою звездочкой на горизонте отдаленных, неведомых, миров, жителям коих, может быть, не придет и на мысль, что этим «блеском на секунду» кончается бурная история планеты и разумных существ, ее населяющих.
Какия грустныя вещи! Быть-может, скажут некоторые из читателей. Нет: мысль о смерти нисколько не страшна для естествоиспытателя. Смерть неизбежное условие жизни, и не помирает только то, что не живет. Но каждая смерть служит началом новой, еще более пышной, жизни, так же как и посеянное в землю семя не оживает, если не умрет.
Жаль, что ныне изучение природы все более приобретает ремесленный характер: мы спускаемся в неведомыя бездны безконечности, не взяв с собой факела, - удивительно ли, что в темноте нашему вниманию доступно лишь то, что мы можем ощупать руками? Как противно это низведение природоведения лишь на служебную цель кормления его адептов! При настоящем положении, ничто так не убивает духа, ничто не подвергает нас в такое безысходное отчаяние, как изучение естественных наук. Многие выводят из них доказательство безцельности самаго нашего существования, а в этом случае разумнейший исход – самоубийство. Это неправда. Изучая природу, мы можем убедиться во-очию, как удивительно разумно устроено все в мире, как чудесны все проявления жизни в нем, от жизни мельчайших инфузорий до жизни огромных миров. Разве не нелепо допустить, что если все в мире разумно, даже неразумное, - то существование нас, разумных существ, не имеет ни смысла, ни цели? Именно естественныя науки и делают явною нелепостью подобный вывод. Если бы мы не были слишком близорукими и перестали из=за деревьев не видеть леса, то именно эти науки стали бы не убивать, а возвышать наш дух, не оподливать, а облагораживать наше сердце…