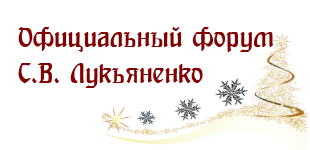Борис Натанович Стругацкий – начинающим писателям и мыслителям
(выборка из off-line интервью 1998-2005 года и других интервью БНС)
О литературном творчестве
...самый правильный принцип работы писателя (на мой взгляд): каждую новую книгу пиши так, будто она у тебя последняя. Не могу сказать, что мы использовали этот принцип КАЖДЫЙ раз, когда писали новую книгу. Но, тем не менее, использовали мы его частенько. А «главную свою книгу» так, по-моему, и не написали.
На мой взгляд, мы со временем стали писать лучше: точнее, разнообразнее, умнее, если угодно. А главное, мы избавились от многих иллюзий. И расплатились за это утратой оптимизма.
Автор должен ОШАРАШИТЬ читателя. А какими средствами он этого достиг – его дело.
Главное, что остается после прочтения. Если остается заряд мыслей – отлично, если только эмоциональный заряд – тоже недурно. Плохо, если ничего не остается.
...гораздо чаще книга вызывает все-таки взрыв эмоций, а не мыслей. Что ничем не хуже на мой взгляд.
Талант читателя – это прежде всего умение сопереживать. Истоки этого умения мне лично не понятны, как и истоки любого таланта, впрочем. Разумеется, хорошо, когда читатель умен, душевно тонок, опытен... Но всему этому грош цена, если отсутствует талант сопереживания. Ведь автор только тогда может считать себя выполнившим задачу, если герои его вызывают сопереживание у читателя. В этом смысле время и эпоха особой роли не играют: сопереживание может вызвать книга, написанная вчера и – тысячу лет назад (как вызывает у меня, скажем, сопереживание Екклезиаст или любое из Евангелий).
...фундаментальной теоремы сочинительства: «То, что не интересно писателю, не может быть по-настоящему интересно и читателю тоже».
Писать надо о том, что тебя волнует и что ты знаешь хорошо (или не знает никто). Все прочее – от лукавого.
Пиши либо о том, что знаешь хорошо, либо о том, чего не знает никто.
...писатель-фантаст (как и любой писатель) никому ничего не «должен». Разве что самому себе – быть честным и по возможности не умножать лжи. А в остальном – «Каждый пишет, как он дышит».
Литераторы ВСЕГДА были «болезненно самолюбивы». Более того, все без исключения творческие люди болезненно самолюбивы. Это их, так сказать, модус вивенди. И я тоже болезненно самолюбив. Просто стараюсь не давать себе воли.
Писать надо под давлением мыслей и чувств. Гомеостатическое Мироздание не столько «выдавливает», сколько «раздавливает». Чтобы «шокировать» читателя, вовсе не надо самому оказаться в состоянии шока. Большинство лучших романов мира написано было в ситуации социальной стабильности.
Потребность «творить миры» заложена во многих людях, и когда эта потребность реализуется, возникает фантастика. В каждом человеке дремлет Демиург – в этом, наверное, все дело. А вот откуда он там (в человеке) взялся, – это вопрос! И нет на него ответа.
Такого рода «идеи» любому писателю приходится изобретать часто и быстро, если он пишет фантастическую прозу. Штучки-дрючки эти, не имея, как правило, никакой самостоятельной ценности, несут чрезвычайно важную художественную нагрузку: они создают достоверный антураж, без которого цена любой фантастике – дерьмо.
Стремление перенести на бумагу ту реальность, которая нас окружает. Обычная задача любого писателя. А фантастика – это антураж, декорации, и не более того.
Всю свою жизнь мы работали по принципу Герберта Уэллса: фантастика – это литература об обыкновенном человеке в необыкновенных обстоятельствах.
«Фантастическим называется любое произведение, сюжетообразующим элементом которого является необычайное, чрезвычайно маловероятное или совсем невозможное». Из этого и исходите. Желаю удачи. (Тут беда в том, что это определение, сформулированное в свое время АБС, увы, не является общепризнанным).
...для автора в данном случае самым главным было не «какое именно чудо в романе происходит», а скорее, «как герои на это чудо реагируют».
Сами АБС относили себя к направлению «реалистической фантастики» (или – фантастического реализма, если угодно). Реальный мир, искаженный фантастическим допущением, – вот их территория. Реальные люди и их взаимоотношения в этом мире – вот их герои. Все остальное – как получится.
У меня нет единой, четко сформулированной и отлитой в бронзу творческой концепции. Есть набор правил и аксиом, к которым я прибегаю по мере надобности. «Литература должна рассказывать о людях и человеческих судьбах». «Главное назначение книги – создать у читателя потребность к сопереживанию героям и их судьбе». «Фантастика есть часть литературы, это художественный прием, служащий для придания повествованию остроты, усиливающий акт сопереживания, позволяющий рассматривать проблемы, недоступные для «бытовой» литературы (скажем, проблему Разума во вселенной, или социологию Будущего)». «Фантастика стоит на трех слонах – ЧУДО – ТАЙНА – ДОСТОВЕРНОСТЬ. ЧУДО – это собственно фантастический элемент, вводимый в повествование. ТАЙНА – способ подачи информации, та морковка, которая ведет читателя от страницы к странице и никак не позволяет ему отложить книгу. ДОСТОВЕРНОСТЬ – главный из слонов, это сцепление текста с реальностью, реальная жизнь внутри книги, то, без чего роман превращается в развлекательную байку или эскапистскую болтовню»... Ну и так далее. Наверняка все это как-то соотносится с моим жизненным кредо. Как именно, не знаю. Собственно, все мое жизненное кредо сводится к фразе из «Стажеров»: жизнь дает человеку три счастья – друга, любовь и работу. Все прочее – от лукавого.
Константин: ...в лучших произведениях русской литературы герои упорно не кончают добром. Почему?
Я уже писал выше, что это не есть свойство только РУССКОЙ литературы. Это свойство хорошей литературы вообще. Видимо, реальная жизнь такова, что самым правдоподобным любому литератору со вкусом видится именно печальный конец. А конец бодрый-жизнерадостный представляется, наоборот, залипухой и фанерой.
...мне просится на язык вопрос: а художественная литература высокого уровня вообще способна базироваться на чем-нибудь, кроме как на отрицании?
У меня такое чувство, что отрицание есть плоть любого высокого художественного произведения. Позитивная же его часть есть дух – она представляет собой не что иное как отпечаток нравственности автора.
Литература – всегда отрицание. Это понятно, потому что мир наш – это мир зла. Жизнь наша – это борьба со злом. Всегда! Только та литература имеет право на существование, где эта борьба со злом происходит и находится в самом центре внимания. Причем, добро – заметьте! – как правило лишь подразумевается в тексте, повторяю: это нравственность автора, и в явном виде оно может и не появиться вовсе. Упоминания о добре может даже не быть. Добро присутствует незримо. Но только в том случае, когда ты видишь, что герой, сражающийся со злом, удовлетворяет определенным критериям нравственности, только тогда ты ощущаешь подлинное сопереживание этому герою, а в этом – СУТЬ чтения. Что же касается позитивной программы, то весь опыт литературы, я бы сказал, мировой, показывает, что как только автор ставит перед собою цель сделать свою книгу Библией – сводом нравственных правил, сводом, если угодно, образцовых поступков, «учебником жизни» прямого действия – одна лишь попытка такого рода книгу – уничтожает. Вот почему, между прочим, не могли существовать в литературе произведения в духе социалистического реализма, если автор стремился добросовестно следовать всем канонам этого идеологического учения. Потому что один из важнейших канонов был – непосредственная демонстрация добра. Добру недостаточно было присутствовать в подтексте, в духе произведения, – добро обязано было ходить по страницам книги во плоти, например, в виде секретаря обкома, носителя и произносителя окончательных исторических, социальных, политических и нравственных истин. Добро должно было присутствовать явно, грубо, зримо, и оно присутствовало, и – разрывало художественную ткань повествования, а само произведение превращало в месиво литературных отбросов. А вот, скажем, так называемый критический реализм – вот он – вечен. В этой манере пишут сейчас и будут писать всегда, потому что всегда жизнь человеческая – это борьба зла и добра. Причем зло – явно, конкретно, зримо, а добро – неосязаемо, неуловимо, САКРАЛЬНО, как сама нравственность, как душа, понимаете? Библию написать нельзя. Эта книга уже написана. Раз и навсегда. Но вот... Апокалипсис написать – можно!
Настоящий писатель (по определению) вообще не занимается «изобретением сущностей». Он пишет о той единственной сущности, о которой только и имеет смысл писать художественные произведения: о человеческих судьбах. Другое дело, что иногда он прибегает к изобретению новых сущностей для создания определенного антуража, декораций, атмосферы... Это так естественно. Ведь фантастика – это ЧУДО-ТАЙНА-ДОСТОВЕРНОСТЬ. Какое же может быть ЧУДО без эффектной, энергичной, по возможности совсем новенькой, с иголочки, сущности? Так и появляются: инопланетные пришельцы, разумные планеты, а то и вовсе маги-волшебники. Другой вопрос: можно ли считать, что все эти сущности умножаются БЕЗ НУЖДЫ? По-моему, нельзя. Эти сущности нужны писателю как воздух, иначе он не занимался бы фантастикой, а писал бы суконный реализм. Без новых сущностей. Но – суконный.
...этот роман, показалось мне, наиоптимальнейшим образом удовлетворяет трем фундаментальным законам-свойствам-качествам хорошего фантастического произведения, знаменитой триаде ЧУДО-ТАЙНА-ДОСТОВЕРНОСТЬ. Здесь: ЧУДО – собственно фантастическая выдумка; ТАЙНА – процедура подачи информации, сам процесс разматывания сюжета; ДОСТОВЕРНОСТЬ – степень сцепления произведения с реальностью.
Мне нравятся ВСЕ (фантастические) произведения, прочно и основательно располагающиеся на Трех Китах Фантастики, имена коим: Чудо, Тайна, Достоверность. Это могут быть злые произведения («Омон Ра», многие романы В.Рыбакова и А.Столярова), могут быть добрые (любая практически вещь Бориса Штерна или, скажем, Е.Лукина или М.Успенского), но Чудо в них должно быть чудесным, Тайна – таинственной, а Достоверность (то есть сцепление с реальностью) безукоризненно точной.
Фантастика накладывает на писателя ЧРЕЗВЫЧАЙНО жесткие ограничения. Настоящая фантастика должна быть еще более реалистична, чем собственно реалистическое произведение. Ибо «фантастическая фантастика» – это лажа, залипуха и картон. К сожалению, многие этого не понимают и норовят нагромоздить в тексте побольше чудес и необычайностей, забывая о реализме и достоверности, без которых цена всем этим нагромождениям – дерьмо.
От действительности уводит только плохая фантастика (как и плохая литература вообще). Хорошая фантастика ВСЕГДА сцеплена с реальностью, и чем она лучше, тем жестче сцепление.
Подавляющее большинство фантастов (во всяком случае – хороших фантастов) используют «необычные явления» только как антураж, как художественный прием, и не более того. Неужели нам надо было верить в магов, ведьм и колдунов для того, чтобы писать «Понедельник начинается в субботу»?
...Я сам немного пишу, точнее пишу много, но этим не кичусь, так, про себя, тихонько. ... Но стоит прочесть какую-нибудь стоящую книгу, действительно стоящую, как, например, Сэлинджера, Набокова, и думаешь – господи, чем ты вообще занимаешься, а главное, зачем, когда ты точно знаешь, что у тебя никогда не получится ничего подобного!!!!!
Такое со мной бывало, и бывало неоднократно! Ничего страшного. Так или иначе приступ самобичевания проходит, и ты снова начинаешь понимать, что ты, конечно, не из лучших, до Сэлинджера тебе далеко, но зато как много на свете бедолаг, которые пишут заметно хуже тебя!.. Вот Иванов, например. Или, скажем, Петров... Не говоря уж о бедняге Сидорове. Так в этих приятных размышлениях и успокаиваешься. Успокаиваешь себя.
Вообще-то, все, что выходит у литератора из-под пера, как правило кажется ни к черту не годным. Иногда это впечатление – ошибочно. Так что надо рисковать: нести рукопись в издательство, давать читать знакомым, отдавать на конкурс. Рискуйте. Кто не рискует, тот не становится.
Вообще-то, в процессе работы меньше всего думаешь о читателе. Хочется только, чтобы это нравилось тебе самому, ну и, может быть, еще полудюжине твоих друзей. А уж что ты при этом «донесешь» – дело совсем десятое. «Нравится – не нравится», вот единственный, но величайший принцип оценки литературной работы. Все прочее же – литературоведение и литкритика, не будь к ночи помянуты.
В «Сталкере» есть такие слова (цитирую по сценарию):
Профессор. И о чём же вы пишете?
Писатель. Да как вам сказать... В основном о читателях. Ни о чём другом они читать не хотят.
Сообщение отредактировал zirius: 10:50:49 - 11.11.2012